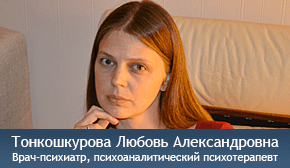Параноидные и депрессивные тревоги на начальных этапах психотерапии
Сокращению подвергся клинический материал – описание случаев из практики. Это было сделано с целью соблюдения конфиденциальности.
Добрый день, уважаемые коллеги!
Тема моего доклада посвящена параноидным и депрессивным тревогам, с которыми сталкиваются наши пациенты, приходя к нам за помощью.
И хотя моя психоаналитическая ориентация слышится уже в теме доклада, я очень надеюсь, что вопросы, на которые я хочу обратить ваше внимание, будут актуальны для большинства здесь собравшихся коллег вне зависимости от их теоретической принадлежности, а за терминами, неизбежными в любого рода теоретизированиях, вы сможете разглядеть знакомые вам клинические феномены.
Отправной точкой моих размышлений стали идеи М. Кляйн о сменяющих друг друга параноидно-шизоидной и депрессивной позициях, и о различных тревогах, соответствующих этим позициям – тревоге преследования и депрессивной тревоге.

Отсутствие внутреннего ощущения целостности, как себя, так и другого (объекта), а так же наличие внутренних деструктивных импульсов, по мнению Кляйн, приводят в действие механизм расщепления объекта на хороший и плохой. Другой переживается в результате либо как плохой, либо как чрезвычайно хороший. То же самое происходит и с собственным Я. Эго оказывается расщеплено на хорошее Я и плохое Я. Для того, чтобы поддерживать это расщепление психикой активно используются механизмы проективной идентификации. Собственные агрессивные импульсы оказываются спроецированными в объект, что поддерживает некоторую целостность переживания собственного Я, не способного переносить сильные амбивалентные чувства. Платой за это является переживание тревоги преследования, т.к. собственные агрессивные импульсы, не интегрированные хрупким эго, переживаются как часть враждебной внешней реальности. Достижение депрессивной позиции происходит за счет укрепления эго, способного переносить амбивалентные чувства по отношению к объекту, испытывать ненависть и любовь одновременно, т.е. переживать собственное Я как источник разрушительных импульсов, направленных на другого, от которого индивид зависит. Объект так же переживается как более целостный, поэтому ненависть оказывается направлена на любимый объект. Все это приводит к переживанию вины и потери. Становится возможной работа скорби, растет способность к репарации.
Если на параноидно-шизоидной стадии имеет место тревога, связанная с преследованием, и усилия направлены на то, чтобы держать объект и собственные спроецированные в него агрессивные импульсы под контролем, то на депрессивной позиции индивид сталкивается с реальностью потери, т.к. контроль осознается как иллюзорный, а объект становится независимым. Поэтому тревога депрессивной позиции – это тревога по поводу возможного оставления.
Хотя изначально Кляйн писала о том, что параноидно-шизоизной стадии соответствует возраст первых трех-четырех месяцев, а достижение депрессивной приходится на период четырех месяцев, в дальнейшем эта концепция была развита не как концепция поступательного развития, а скорее концепция позиций, находящихся в динамическом равновесии, когда постоянно происходят флуктуации – переходы от одной позиции к другой, процессы интеграции – дезинтеграции – и последующей интеграции на новом уровне.
 Полагаю, все присутствующие согласятся с тем фактом, что первая встреча, начальный контакт пациента со своим (будущим, потенциальным) психотерапевтом – являются особым моментом во всей психотерапевтической работе. Этому вопросу посвящено множество работ. Тревоги, связанные с установлением контакта, нарциссической уязвимостью и т.д., свойственны в той или иной степени всем пациентам.
Полагаю, все присутствующие согласятся с тем фактом, что первая встреча, начальный контакт пациента со своим (будущим, потенциальным) психотерапевтом – являются особым моментом во всей психотерапевтической работе. Этому вопросу посвящено множество работ. Тревоги, связанные с установлением контакта, нарциссической уязвимостью и т.д., свойственны в той или иной степени всем пациентам.
Помимо необходимости оценить состояние пациента (с точки зрения симптомов, анамнеза, жизненной истории, защитных механизмов и т.д.), мы, как терапевты, сталкиваемся с целым рядом межличностных задач. До некоторой степени эти задачи входят в противоречие друг с другом.
Так, например Ш.Роут, пытаясь провести разграничение между психиатрическим и психотерапевтическим диагнозами, говорит о расщеплении, которое он сам испытывал на первых этапах собственной практики.
А Огден, в статье посвященной переносу/контрпереносу на первой сессии так же указывает на глубокий межличностный контекст уже первой консультации: «Аналитик становится объектом переноса еще до начала их первой встречи. Помимо того, что аналитик воспринимается как человек, специально обученный, чтобы понять и (каким-то неизвестным пока способом) помочь пациенту облегчить его психические страдания, он видится как успокаивающая мать, детский переходный объект, как желаемые эдипальные отец и мать и т.д. Вместе с этими надеждами приходит и боязнь разочарования».
Несмотря на то, что большинство пациентов, обращающихся за психотерапевтической помощью, испытывают тревогу, связанную с самим обращением, далеко не всегда эти тревоги становятся предметом обсуждения на первой встрече или даже последующих. Озабоченность этими тревогами порою столь высока, а уровень доверия психотерапевту и самому себе еще так мал, что знание о сути этих тревог мы черпаем скорее из нашего взаимодействия с пациентом, полунамеков, нарративов, первых сновидений.

Как сложится контакт со специалистом, насколько можно и насколько необходимо доверять специалисту – это вопросы, которые беспокоят без преувеличения всех наших пациентов. Вопрос о возможности и вопрос о необходимости предоставления личной информации – представляются мне именно двумя отдельными вопросами, решаемыми пациентом в кабинете. С одной стороны потребность быть понятым, иметь человека, которому бы можно было доверить самое важное – свои сокровенные мысли и чувства, сомнения, боль и униженность, ужасающую глубину страдания или нелицеприятные факты биографии – заставляет пациента искать контакта со своим психотерапевтом, выстраивать коммуникативные мосты, связующие двух человек, находящихся в кабинете. Наши пациенты надеются получить отклик не только на свой сознательный запрос, но и на бессознательную его часть.
Эта потребность, разумеется, имеет непосредственное отношение к потребности ребенка в заботливой матери, способной чутко улавливать потребности ребенка и реагировать на них, потребности найти надежный контейнер, для собственного психического содержимого. Имена эта способность матери быть надежным контейнером для противоречивых чувств ребенка является условием, необходимым для интеграции собственной психики в целое и перехода на депрессивную позицию. Фигуральное выражение русского языка «излить душу» наводит нас на размышления о том сосуде, который примет в себя то, что излито, насколько он надежен и какие преобразования в нем будут происходить, прежде, чем содержимое будет возвращено в виде интерпретации, рекомендаций и т.д.
Трудно представить себе более личный, более интимный процесс, чем тот, что разворачивается на приеме у психотерапевта. Тот, кому посчастливилось пережить на собственном опыте эмпатическое понимание, безоценочное отношение, безусловное принятие – все то, о чем с молодых ногтей читает каждый специалист – тот, пожалуй, согласится с тем, насколько ценным является этот эмоциональный опыт. Именно такого опыта ищут наши пациенты.
С другой стороны сама терапевтическая ситуация представляет собой серьезную опасность и имеет риск превратиться в ситуацию вторжения или даже насилия.
«Если работе суждено быть продуктивной, будет создана новая драма, о которой ни один из них (ни пациент, ни аналитик) ранее не предполагал. Вместе с воодушевлением приходит тревога. В значительной степени чувство страха перед первой встречей обусловлено перспективой встретиться со своим внутренним миром и с внутренним миром другого человека».
Само понятие сопротивления, так прочно укоренившееся в психоаналитической и психотерапевтической практике, говорит нам о наличии мощных внутрипсихических сил, направленных как на стремление пациента устанавливать контакт со своим аналитиком/терапевтом посредством диалога (в самом широком смысле этого слова) так и на сохранение приватного/аутистического переживания внутреннего опыта. Здесь я хотел бы напомнить изначальный смысл понятия сопротивление: под сопротивлением Фрейдом понимался отказ следовать основному правилу – требованию сообщать аналитику все, что приходит в голову, независимо от того, насколько пришедшая мысль кажется уместной, важной, неприятной и т.д.
Таким образом, в этом противопоставлении свободных ассоциаций с одной стороны и сопротивления с другой мы можем наблюдать внутренние противоречия наших пациентов. Именно об этом противопоставлении, как о движущей силе аналитического процесса говорил Т.Огден: «Создание аналитического процесса зависит от способности аналитика и анализируемого вступать в диалектическое взаимодействие состояний «мечтания», которые в одно и то же время приватны и бессознательно коммуникативны».
Отказ от одной из сторон этого противоречия приводит к потере смысла совместной работы. В случае утраты приватности собственных переживаний самое большое, что мы получаем от пациента – это пересказ собственной истории, и последующий вопросительный взгляд или вопрос: а что мне с этим делать? Утрачивается способность наблюдать за собственными переживаниями, исследовать их, удивляться. В случае утраты коммуникации с терапевтом становится невозможным использование терапевта, и терапия, на что указывал Винникотт, не может выйти за пределы самоанализа.

Возможность сохранять приватность – что выражается, например, в возможности выбирать материал для сессии (решать, о ем говорить, а о чем нет) – создает тот контекст, в котором возможно взаимодействие, побуждаемое внутренней потребностью в коммуникации. В противном случае самораскрытие становится проявлением насилия, в том числе и самонасия и ведет лишь к усилению защитных механизмов. А при наличии требований большей открытости со стороны терапевта может стать причиной ятрогений. Однако, даже отсутствие такого рода требований со стороны терапевта не гарантирует того, что чрезмерное или слишком поспешное самораскрытие со стороны пациента не создаст угрозы для терапии.
Высокая тревога, сопровождающая первую консультацию и начальный этап терапии, связана с наличием потенциальных благоприятных возможностей, связанных с терапией, поскольку начальный контакт может послужить отправной точкой важных изменений в жизни пациента. Но, кроме того, начальный этап ассоциируется с наличием потенциальной опасности травматизации в том числе первичным приемом, на что указывали, например, Балинты, говоря о консультации, как более травматичном опыте по сравнению с длительной терапией, вследствие более высокой концентрации событий.
Мои наблюдения и попытки осмысления, как собственной психотерапевтической практики, так и практики моих коллег, чью работу мне доводилось супервизировать, а так же собственного анализа, позволили мне придти к заключению, что тревога на первых встречах и начальном этапе психотерапевтической работы не однородна и клинически полезным оказывается выделение двух форм тревог, а именно: депрессивной (связанной с переживаниями покинутости терапевтом) и параноидной (связанной с переживаниями терапии, как вторжения в личные границы). Их разделение, как я надеюсь, мне удастся продемонстрировать ниже, позволяет специалисту осмыслять клиническую ситуацию и выбирать адекватные интервенции, создавать оптимальный сеттинг и предлагать своим пациентам адекватные интерпретации, укрепляя тем самым терапевтический альянс, что является первостепенной задачей начального этапа (длительной) психотерапии. С другой стороны, смешение этих двух видов тревог в голове у клинициста влечет за собой риск потери контакта и преждевременным прерываниям психотерапии. Не без сожаления, добавлю здесь, что те выводы, которые я попытался изложить в этом докладе, сделаны на основании в т.ч. собственного неудачного опыта. Оглядываясь назад, я понимаю, что с частью пациентов, навсегда покинувших мой кабинет после 1-5 встреч, могла сложиться совершенно иная работа – продуктивная длительная психотерапия, которая дала бы им гораздо больше, чем дали эти несколько консультаций.
В других же случаях, интуитивное понимание сути начальных тревог позволяло мне предложить адекватную ситуации технику и помочь человеку вступить в продуктивный психотерапевтический процесс.

В случаях, когда преобладают тревоги связанные с вторжением и преследованием, интерес терапевта переживается скорее как преследование. В этом случае стоит не торопиться с вопросами и интерпретациями, позволяя пациенту самому развивать свой рассказ, а в некоторых случаях направить свои усилия на предотвращение преждевременного и разрушительного самораскрытия со стороны пациента.
Пациентка А. после нескольких консультаций, начала терапию дважды в неделю. Буквально с первых встреч меня поразила ее откровенность, которую я изначально принял за высокую мотивацию к работе и благоприятный прогностический признак. Однако, через некоторое время стало понятно, что такая откровенность была частью довольно разрушительного паттерна поведения, когда пациентка стремительно завязывала тесные отношения, которыми вскорости начинала тяготиться и прерывала их. Так, например, чуть позже она рассказала о первом (оказавшимся весьма негативным) сексуальном опыте, инициатором которого была она сама, и ничего, кроме разочарования и унижения не доставившем ей.
После нескольких встреч, на которых, как я уже сказал, А. была очень откровенна, рассказывая как о своих текущих проблемах, так и о своей прошлой жизни, она рассказала сон, приснившейся ей после одной из наших встреч:
В этом сновидении она находится в комнате, и кто-то начинает стучать в дверь. Она не откр`ывает, и стук становится все более настойчивым, а затем дверь начинают выламывать так, что из нее уже начинают торчать щепки. Не дожидаясь, когда дверь будет окончательно сломана, она выбирается в окно и бросается бежать.
Одна из моих интерпретаций этого сновидения заключалась в указании на то, что она, по-видимому, переживает наше стремительное начало терапии, как потенциальную угрозу, что чувства, поднимаемые нашими встречами, пугают ее, а мой интерес к ней она воспринимает как вторжение в ее личное пространство.
Она не придала особого значения моим словам, сославшись на то, что «это просто сон», но сказала, что хотела бы продолжить дальнейшую работу, сократив количество встреч до одной в неделю. На это я заметил, что мы как будто разыгрываем ее сон наяву: сокращая частоту встреч, она пытается убежать от преследования со стороны пугающих ее чувств или с моей стороны. Мои слова заставили ее задуматься немного о том, как она чувствует себя в терапии. В дальнейшем мы возвращались вновь к теме того, как она стремительно погружается в чрезвычайно тесные отношения, а потом быстро рвет их.
Мы перешли на еженедельные встречи. Я согласился отчасти из-за ее безапелляционного тона по этому вопросу, отчасти потому, что рассчитывал, что этот шаг действительно позволит ей найти приемлемый для нее и не такой поспешный способ строить отношения, пусть даже это будет происходить не посредством осмысления собственных чувств и импульсов, а через непосредственное разыгрывание.
Однако работа с этой пациенткой продлилась после этого шага всего пару месяцев и была прервана гораздо раньше, чем планировалось нами изначально. Сновидение и паттерн отношений, которое оно отражало, было разыграно в терапевтических отношениях. Некоторым утешением мне было, что мы все же могли обсуждать это с А., а так же, что завершение работы не было столь поспешным бегством, как во сне – у нас было две сессии, когда мы обсуждали предстоящее окончание работы.
Другая опасность – переживание пациентом терапевта скорее как отсутствующего, что провоцирует тревоги связанные с оставлением и покинутостью. Увещевания и заверения в собственной эмоциональной доступности, так же как и попытки прямого удовлетворения пациента, например, через увеличение частоты встреч или обсуждение возможности звонить или писать в перерывах между сессиями не приводит к терапевтическому прогрессу, зачастую только усугубляя ситуацию.
Неспособность увидеть эту тревогу в пациенте, поскольку она представляется собой весьма болезненное переживание, которое тщательно маскируется, приводит чаще всего к преждевременным прерываниям терапии.
Пациентка Б. обратилась к терапии из-за острой ситуации сложившейся в ее семье. (в целях соблюдения конфиденциальности описание случая не публикуется)
Пациент В. обратился за помощью в связи с глубоким чувством подавленности. В течение длительного времени он находился в депрессивном состоянии, сопровождавшемся частыми переживаниями острой тревоги. (в целях соблюдения конфиденциальности описание случая не публикуется)
В заключение мне хотелось бы сказать, что процесс психоаналитической терапии, если мы действительно открыты к внутреннему миру наших пациентов, никогда не идет линейно и поступательно. На протяжении всего этого пути мы рискуем столкнуться с тяжелыми переживаниями, успехами и сложностями. Но внимание к заботам и беспокойствам наших пациентов, а так же глубокое понимание их тревог и потребностей и чуткая реакция на них, позволяют нам продвигаться вперед. Особенно важным мне представляется это на начальных этапах работы, когда только закладывается фундамент терапевтических отношений, когда ошибки со стороны терапевта столь непростительны, т.к. переживаются нашими пациентами особенно остро и болезненно.
Автор статьи: Зубарев Андрей Сергеевич
Поделитесь ссылкой со своими друзьями: